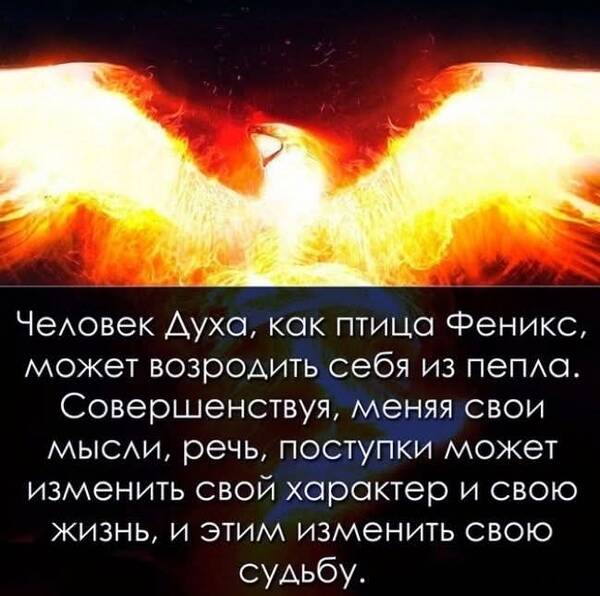Мария Мухина. Пока ребенок обслуживает ваши взрослые нужды и потребности, он не проживает свою детскую (или уже взрослую) жизнь...
Понятие семейной иерархии — один из основных законов, которым подчиняется жизнь семьи. Одно из положений иерархии заключается в том, что в семье родители несут ответственность за детей и имеют всю власть в нуклеарной семье.
Триангуляция
Триангуляция — эмоциональный процесс между двумя людьми, который имеет тенденцию вовлекать в отношения третьего. В нарушенной семье, где внутренние границы размыты, родители могут иногда делать детей своими эмоциональными партнерами. Это перевернутая иерархия, при которой статус ребенка в семье равен родительскому.
Пример: «Дочь-подружка». Мама общается с дочерью на равных, как партнеры, как подруги, что приводит к психологическому дискомфорту у ребенка, к смешению ролей, к ослаблению силы ребенка.
В норме сила ребенка должна направляться в социум, использоваться для общения со сверстниками, друзьями и сиблингами (братьями, сестрами).
В случае, когда мама начинает делиться с дочкой тем, какие у неё плохие отношения с папой, как они конфликтуют, делится своими подозрениями относительно измен отца, в душе у ребенка начинает происходить сумятица.
Когда мама становится дочери подругой, в глазах дочери это снижает ее авторитет и, как следствие, дочь непроизвольно эмоционально присоединяется к отцу. Ребенок не хочет слышать подобных вещей, ему тяжело слушать негативные вещи про одного из родителей. В результате дочь старается дистанцироваться от матери.
То же происходит и в случае излишне доверительных, товарищеских отношениях одного из родителей с сыном.
Чего не должны знать про вас дети
Затрагивая тему избыточной откровенности в общении с детьми, следует сразу обозначить, чего в норме не должны знать дети. Дети не должны знать про личные интимные подробности и тайны родителей. В первую очередь это касается сексуальных отношений. Метафорически это звучит так: «Дверь супружеской спальни для детей должна быть плотно заперта». Да, дети знают, что дверь эта есть, и на этом — всё.
Также дети не должны знать о добрачных романах, отношениях, влюбленностях родителей. Рассказывая о своих добрачных отношениях детям, мать забирает силу отца и настраивает детей против себя.
То же касается отца, дети не должны знать о его добрачных отношениях. Если имел место брак и дети спросили об этом, имеет смысл сообщить только факт брака и это не должно глубоко фиксироваться, дабы не вызвать тревогу у детей и их сомнения в устойчивости союза родителей.
Теперь вернемся к нарушениям иерархии в семейной системе.
Парентификация
Термин парентификация произошел от английского слова «parents» — родители. В буквальном смысле это означает, что дети функционально становятся родителями собственным родителям. Это вариант перевернутой иерархии часто возникает в случае алкоголизма, или наркомании одного или обоих родителей.
Пример: Если отец химически зависимый и в семье есть сын, то он часто замещает созависимой матери отца. Отец и мать в такой семье зачастую, инфантильные, поэтому ребенок вынужден стать единственным взрослым и нести ответственность за семью, ее существование и гомеостаз. Он принимает решения, он отвечает за границы семьи, делая их жесткими. Жесткие границы в этом случае выглядят примерно так: никто не должен узнать, что отец зависимый, поэтому никого нельзя звать в дом, ни с кем нельзя делиться происходящим в семье. У такого ребенка, как правило, нет друзей, он ведет замкнутую «взрослую» жизнь. Это перевернутая иерархия, при которой статус ребенка в семье выше родительского.
Другой пример парентификации: в случае ранней смерти матери, дочь функционально заменяет ее и, как следствие, перестает быть дочерью. Она выполняет много домашних женских дел с раннего возраста, ухаживая за отцом и поддерживая его. Так и не познакомившись полноценно с ролью дочки, вырастая, она чаще всего становится функциональной мамой своему мужу.
Нарушение иерархии в сиблинговой подсистеме
Происходит как следствие парентификации, когда старший ребенок берет на себя ответственность за родительскую подсистему, он также берет ответственность и за детскую подсистему (младших детей).
Или другой вариант: когда только в детской подсистеме нет иерархии, нет ведущего и ведомого, старшие и младшие дети на равных. Происходит это, когда один родитель жестко, авторитарно влияет на детей, объединяясь в коалицию с детской подсистемой и ослабляя тем самым другого родителя.
Пример: Папа, который проводит много времени со своими сыновьями разного возраста (спорт, шахматы, рыбалка), не дифференцируя их на старший-младший, а мама при этом находится вне их занятий. В таком случае мама, ощущая себя ослабленной, испытывает раздражение на коалицию отец-сыновья и ищет с кем создать свою коалицию, например со своими родителями или психотерапевтом.
Стоит отметить, что наряду с дисфункциональными коалициями, объединяющими родителя и ребенка, есть и здоровые варианты — это коалиции «по горизонтали», к ним относятся внутрисемейные коалиции между супругами и между сиблингами.
Уважаемые Родители!
Когда вы «дружите» со своими детьми, когда вы жалуетесь им на свою взрослую жизнь, когда демонстрируете свою неспособность справиться со своими потерями и поражениями…
Когда латаете детской душой бреши своего одиночества, когда вынуждаете ребенка покрывать ваши болезненные пристрастия…
Когда, ведомые своим эгоизмом, пеняете на неблагодарность своего чада и требуете мзду за «бессонные ночи» в виде внимания или сочувствия, – знайте, что тем самым вы лишаете своего ребенка не только родителя, коим вы, нарушая иерархию, быть не в состоянии.
Вы лишаете ребенка его Жизни, потому что пока ребенок обслуживает ваши взрослые нужды и потребности, он не проживает свою детскую (или уже взрослую) жизнь.
Знайте об этом.
***
© Мария Мухина