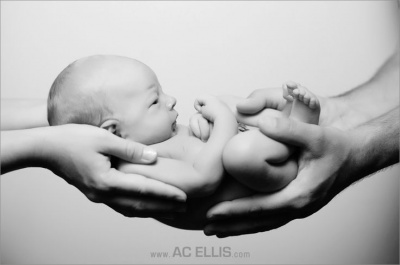Усыновить родителей
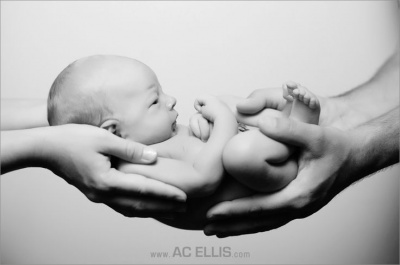
Колмановский Александр Эдуардович
— Много всяких моментов, которые вызывают, ну, скажем так мягко, дискомфорт детей в отношениях с родителями. Это попытки навязывать что-то, что человеку не нравится. Бывает, наоборот, недостаток внимания и интереса со стороны родителей, как кажется детям. Непонимание — очень часто. И очень часто — несовпадение интересов, то есть родители хотят что-то одно, а человек считает, что ему это вредно, и ему нужно совсем другое. В чем причина этого дискомфорта, который мы, дети, так часто испытываем в общении с родителями? Есть ли какие-то общие причины этого явления? И в какой степени причина в родителе, в какой степени — в ребенке?
— Это явление действительно универсальное. Почти все взрослые люди испытывают тот или иной дискомфорт в общении с родителями и от этого страдают. Здесь не приходится говорить о чьей-либо вине, слово «вина» вообще не уместно. Но если говорить о причинно-следственной связи, то конечно, ответственность за это неблагополучие лежит на родителях. Этот дискомфорт закладывается в детстве, когда родители общались с нами, с детьми, так или иначе назидательно, хоть сколько-то не принимающе…
— Проблема именно в форме общения или в каком-то внутреннем неправильном отношении родителей к ребенку и к самому себе?
— Во внутреннем. Внешняя форма общения есть только следствие внутреннего отношения. Поэтому если форма неправильная, значит, внутреннее отношение искажено.
— В чем суть искажения?
— У каждого живого человека есть страх за себя. Это нормальное чувство, очень важное с адаптивной точки зрения. Но, кроме этого, бывает еще страх за другого — за ребенка, за ближнего, за родственника, за друга, за мужа, за жену. Это два совсем разных чувства, они переживаются по-разному и выражаются по-разному.
Страх за себя ощущается и внешне выражается в форме протеста, раздражения, агрессии. А страх за другого ощущается и внешне выражается в форме сочувствия.
Представим себе какого-то сложного человека с низким самопринятием, неуверенного, мало реализованного. У этого человека неизбежно будет очень силён страх за себя, который будет выражаться, как уже сказано, в виде повышенной раздражительности, критичности, потребительской позиции. У него будет непреодолимая потребность «тянуть одеяло на себя». Теперь представим, что у такого человека рождается ребенок. У новоиспечённого родителя развивается, конечно, страх за ребенка, то есть сочувствие к ребенку. Но страх за себя при этом никуда не девается и сам по себе не уменьшается. (Он может уменьшиться только с помощью очень специальных усилий, а также определенного везения). Поэтому когда такой родитель сталкивается с каким-то неблагополучием своего ребенка — плохое поведение, легкомыслие, безответственность, даже болезненность, — у него мгновенно развиваются оба чувства, оба страха. И чем более родитель психологически неблагополучен, тем больше выражен страх за себя, то есть — по внешней форме — раздражение, протест, назидательность. Отсюда возникают традиционные фразы «Кто тебе разрешил? О чем ты только думаешь? Сколько можно повторять одно и то же?» и так далее. Все эти протестные формы, интонации, лексика выдают родительский страх за себя, хотя декларируется страх за ребенка.
— Он и сам думает, что он беспокоится за ребенка…
— Да, разумеется. А дети эту подмену моментально замечают, независимо от своего возраста и психологической квалификации. Они такими сложными и умными словами, как мы с вами сейчас, этого себе, конечно, не объясняют, но они чувствуют, что к ним плохо относятся, что родители боятся не за них, а «против» них. Из-за этого такой ребенок, в свою очередь, становится неуверенным в себе, неблагополучным человеком, продолжая эту многотысячелетнюю цепочку, становясь очередным звеном в ней…
Ребенок, который с детства был этим нагружен, чувствует себя не вполне принятым, не вполне правильным. И с этим дальше живет всю жизнь. Это ощущение уже никак не меняется — меняется только паспортный возраст. Ощущение, что «я плохой, неправильный, и я, в случае чего, подлежу осуждению и наказанию», — это и есть недостаток самопринятия — оно само по себе никуда не уходит. Повторюсь, ничьей вины здесь нет — это и видно из нашего описания, — никто из нас не выбирал своего страха за себя. Сила этого страха определена у каждого из нас нашей детской историей, историей наших детско-родительских отношений.
— Значит, когда некоторые психологи говорят детям, что «на самом деле, родители хотят вам добра, вы просто не понимаете», все-таки правы дети, когда они говорят, что мы лучше знаем, как на самом деле, чего нам хотят — добра или не добра. То есть понимание детей обычно правильное, да?
— Совершенно верно. Поэтому беспомощными остаются призывы: «Ну это же твои родители, ну пойми, как они тебя любят, ну ты должен их простить». Вообще-то это тоже правда, все родители (в рамках клинической нормы) любят своих детей. Вопрос только — насколько любят. А это по-настоящему проявляется только в ситуации какого-то столкновения, противоречия интересов, конфликта. И вот тут дети видят, что страх родителя за себя больше, чем страх за меня, за ребенка.
— Каковы последствия таких нездоровых отношений с родителями для нас, уже взрослых детей?
— «Нездоровье» этих отношений серьёзно ухудшает наше психологическое состояние. Нашему обыденному взгляду это незаметно, а психологу очень заметно. Так уж устроена человеческая психика, что дискомфорт именно в отношениях с родителями подрывает нашу уверенность в себе, нашу успешность, возможность различать собственные тонкие внутренние переживания.
И вот почему.
Досадно, когда наш «проблемный» родитель осложнял нам, детям, жизнь. Нас ругали, не позволяли ложиться спать, когда хотим, приходить домой, когда хотим, слушать музыку, какую хотим, и ходить в джинсах, в каких хотим. Это всё неприятно. Но самый большой урон, который этот проблемный родитель мог нанести ребенку, — это то, что он всеми этими неприятностями восстанавливал ребенка против себя.
И вот это самое губительное для дальнейшей жизненной траектории человека. Потребность угодить родителю, потребность снискать его расположение, иметь с ним комфортные отношения, — это самая базовая, самая фундаментальная потребность психики. Это, собственно, первая «отношенческая», социальная потребность психики, которая вообще развивается в сознании. Потребность «докультурная», можно сказать, зоологическая. Если детеныш не будет следовать за родителем, его в кустах сожрет леопард. Это вопрос выживаемости вида. А человек всю жизнь остается ребенком своего родителя, в любом возрасте. Поэтому если у ребенка любого возраста — хоть четырех, хоть сорокачетырехлетнего — остается какой-то протест против родителей, у него развивается непреодолимое внутреннее противоречие, «сшибка», он становится очень неблагополучным человеком.
В какой форме это неблагополучие у каждого из нас проявляется — это уже не столь важно. Один становится раздраженным, агрессивным, другой циничным, третий ранимым... Это зависит от психотипа, психофизической конституции каждого из нас. Поэтому если мы не будем пытаться «оздоровить» эти отношения, мы так и останемся психологически не вполне сохранными людьми. Больше того: мы практически неизбежно будем относится к собственным детям с той же неправильностью, от которой страдаем со стороны наших родителей.
— Можно это как-то проиллюстрировать?
— Родитель говорит своей взрослой дочке: «Когда ты наконец выйдешь замуж, сколько можно валять дурака, так всю жизнь проживешь в старых девах!» — и так далее, говорит что-то неуместное, неприятное. Взрослая дочь на это, естественно, огрызается: «Прекрати, я тебе запретила про это разговаривать, от твоего занудства становится только хуже». Даже в этом микро-диалоге мы уже видим сформировавшуюся у этой взрослой дочери протестную, раздраженную реакцию на то, что ей кажется неправильностью. В точности так она дальше будет реагировать на то, что ей будет казаться неправильностью в своих детях, или в своих мужчинах, или даже в подружках.
— Что же делать? Ведь мы зависим от своих родителей и не можем их исправить, избавить их от их страхов и комплексов?
— Чтобы найти ответ на этот вечный вопрос: «Что делать?», зададимся промежуточным вопросом: а почему родители так обращаются с нами? Почему они так поверхностны, назидательны, так формально прикладывают ко мне какие-то общие прописные истины, не считаясь с моими тонкими обстоятельствами и чувствами? Если задаться этим вопросом по-настоящему — не в виде восклицания риторического: «Ну почему они так?» — тогда ответ, кажется, будет не очень трудно найти. Более того, мы его уже сформулировали. Родители не выбирали себе своего страха и вытекающих из него методов воспитания. Не ими это сформировано, как и не нами сформирован наш протест против них. У них были свои родители, свое детство, и именно оттуда их выпустили в жизнь с этим внутренним неблагополучием.
И как правильно к ним тогда отнестись?
Так же, как мы хотели бы, чтобы к нам отнеслись в минуты нашего страха — нашего раздражения, нашей нелюбезности, — в минуты, когда к нам кто-то обратился, а мы на него огрызнулись. Если бы мы сказали кому-то: «Какого чёрта ты лезешь с неуместными вопросами?» — как бы мы хотели, чтобы человек на это реагировал? В самом идеальном случае?
Очевидно, мы хотели бы, чтобы реакция наших партнёров — жён, мужей, друзей, — была сочувственной, чтобы к нам отнеслись с пониманием. Не отвечали бы ударом на удар, а сказали бы: «Ох, прости, как-то, может, я не вовремя, не подумал». Каждый из нас понимает: если я на кого-то огрызнулся или кому-то не пришел на помощь, или кем-то злоупотребил — ну, значит, у меня так сложилось, значит, мне было как-то не по себе. Не я плохой, мне плохо. И это не какое-то лукавое самооправдание — это правильное понимание причинно-следственных связей. Просто о себе это понимать легче, чем про других, потому что свою душевную кухню ты видишь изнутри, а чужую не видишь. Весь фокус в том, чтобы это понимание, это видение уметь проецировать на все остальные «кухни», на остальных людей, — они точно так же устроены. В частности, кухни наших родителей. Эту формулу — «не они плохие, а им плохо» — надо в полной мере применить к ним. Если по-настоящему взять это в голову про своих родителей — очень сильно меняется внутреннее состояние и внешние отношения, меняется сама траектория жизни.
— Как это «взять по-настоящему в голову»?
— Нужно начать себя вести по отношению к ним, исходя из этой формулы. То есть, вести себя по отношению к ним так же, как мы себя ведем по отношению к человеку, которому «наглядно» плохо, у которого это написано на лице, про которого этого понимания не надо с трудом «достраивать». Так, как мы ведём себя с испуганным ребенком, с расстроенным другом, у которого неприятности. Таких людей мы поддерживаем, помогаем, опекаем. Вот так надо вести себя и по отношению к родителям. Если хочешь по-настоящему улучшить отношения с родителями — надо заниматься не каким-то аутотренингом или медитацией, а надо что-то менять в поведенческом, в жестовом плане, в поступках. Психика вторична по отношению к деятельности. Структура психики определяется структурой деятельности. Надо начать за ними ухаживать, надо начать их опекать, надо начать в них вникать. Надо разговаривать с ними о том, о чем приятнее всего говорить любому на свете человеку — о нем самом.
В психологии весь этот комплекс мер называется «усыновить родителя».
— А кто придумал этот термин?
— Его придумала и ввела в обиход психолог Наталья Колмановская .
Есть такое слово «инфантильность» — это когда взрослый человек остаётся не вполне зрелым, остается немножко ребенком в плохом смысле слова. Разница между настоящей зрелостью и инфантильностью определяется, прежде всего, в отношениях с родителями. Для инфантильного ребенка родитель — это что-то такое, от чего мне может быть хорошо или плохо. А для зрелого человека родитель — что-то такое, чему от меня может быть хорошо или плохо. Инфантильный человек в разговоре с родителем больше сфокусирован на собственных чувствах, на своём страхе: будет сейчас что-то неприятное? Скажут мне что-то назидательное? Спросят о чём-то неуместном?
А зрелый человек привычно фокусируется на родителях. Представляет, чего он или она боится, чего хочет, от какой неуверенности в себе страдает, как я могу эту уверенность им придать. Больше расспрашивает, чем выговаривается. Спрашивает, как прошел день, успел ли родитель пообедать, было ли накурено, кто ему (ей) звонил, что смотрели по телевизору. Реально представляет себе их переживания в течение светового дня. И не только в течение дня, но и в течение их жизни. Как было в детстве, как было с родителями, как их наказывали — не наказывали, что было с деньгами, какие были первые сексуальные впечатления.
И, кроме того, и даже важнее того, — вникать и поддерживать их на материально-организационном уровне. Жизнь состоит не из психологии, а, образно говоря, из картошки. Для того, чтобы оценить, кто к кому как относится, надо «выключить звук», убрать комментарии и посмотреть только на картинку — кто кому чистит картошку. Необходимо поддерживать их материально. Навязывать им траты, которых они, стесняясь, избегают. Знать, какое лакомство они любят, и хоть на копейку, но раз в месяц купить это лакомство. Принести посмотреть фильм, который все смотрели, а они даже не слышали. И так далее, и так далее… Именно на этом уровне развивается главное взаимодействие.
И что тогда меняется? Если взрослый ребенок — наш читатель — долгое время занимается такими усилиями (тут не надо строить иллюзий, это очень инерционные вещи, на это уходит много месяцев), родителю понемногу становится уже неестественно общаться с эти взрослым ребенком по-прежнему поверхностно, назидательно, формально или отрешенно. Он начинает смотреть на этого взрослого ребенка уже с вопросом в глазах, он начинает с ним больше считаться.
Но это результат вторичный — и по времени, и по важности. А гораздо более важный, и который гораздо быстрее развивается, состоит вот в чем. Когда ты долгое время в кого-то так вкладываешься, — хотя бы даже в своего родителя — ты начинаешь его воспринимать уже даже не умом, а ощущениями, действительно как объект своей опеки, как недолюбленного ребенка, которому ты пытаешься восполнить этот дефицит. И тогда весь этот родительский негатив, весь родительский остракизм перестает твоей психикой восприниматься на свой счет. Даже задним числом, даже ретроспективно. И человеку очень «светлеет», человек начинает чувствовать себя более уверенно, наполненно. Начинает меньше бояться за себя.
— Когда я говорил о преодолении инфантильности с другими психологами, мне часто говорили о таком термине, как «сепарация» от родителей, то есть отделение от них. Понятно, что, так или иначе, проблему эмоциональной зависимости от родителей, от родительского мнения, нужно решать. «Сепарация» — это некое просто прерывание этой зависимости. А ваш метод звучит как-то более человеколюбиво — «усыновление родителей». Действительно ли, это некие разные пути или же это просто одно и то же под разным названием?
— Это совершенно разные пути — чтоб не сказать диаметрально противоположные. Сепарация — это всегда что-то искусственное. Человеку предлагается в какой-то момент принять умозрительное решение, что я обрываю что-то живое, важное в своих отношениях с родителями. Кроме того, сторонники этой сепарации, как правило, не уточняют, не конкретизируют её масштабы. В одних случаях говорят, что достаточно переехать в другую квартиру и зажить на свои деньги (при этом никак не комментируется характер психологического взаимодействия). В других случаях говорят: «Надо с ними вообще порвать и прекратить всякие отношения». Остаётся непонятным, как же правильнее, как же сделать этот выбор, насколько надо отделиться и оторваться от родителей. Мне кажется, что сепарация — просто дань нашим протестным чувствам, когда родители совсем «достали», и нет никакого желания и сил взаимодействовать с ними. Но это же внутренняя проблема, от которой невозможно уйти какими-то внешними шагами. Да, переехать в отдельную квартиру, наверное, хорошо, но не для того, чтобы забыть о проблеме, а для того, чтобы легче было ею заниматься.
К несчастью, когда родители очень проблемные, соблазн сепарации бывает очень велик. И если человек поддастся этому соблазну, даст слабину, порвёт с ними или сильно отдалится от них, — что ж, он не виноват, значит, действительно не хватило сил. Значит, так ему плохо от них. Беда в том, что расплачиваться за весь этот негатив всё равно придётся ему. Такую сепарацию он усваивает, как жизненный урок: вот как надо поступать с людьми, которые неприятны, неправильны. От них надо отдаляться. И потом человек, сталкиваясь по жизни с некомфортными партнерами, не пытается как-то содержательно исправить, изменить этот дискомфорт, а пытается уйти от него такими организационными мерами. К несчастью, этот «навык», этот урок будет распространяться и на самые интимные отношения нашего героя — на любовные, на родительско-детские. Поэтому мне рекомендация «сепарации» не близка.
— Я попробую с этим поспорить. Вы говорите в большей степени о материальной сепарации — то есть уехать, прекратить общение. Но сепарация, как я понимаю, бывает не только материальной, но и финансовой, и самое главное — эмоциональной. То есть, можно жить в одной квартире и, тем не менее, сепарироваться. Мне кажется, что ваш метод — это единственный возможный путь эмоциональной сепарации. Потому что если так не сделаешь, как вы говорите, то не сепарируешься, на самом деле.
— Я не очень понимаю, что значит эмоциональная сепарация?
— Ну, вот вы говорите, что ребенок зависит от мнения родителей — и это для него порой выливается в давление на него. И говорите, что нужно перестать от этого зависеть, сделать так, чтобы, наоборот, родитель зависел от тебя. Это же содействует сепарации?
— Давайте уточним терминологию. Все на свете живые люди зависят от мнения других. Это неизбежно, это само по себе нормально. Ненормальной бывает степень этой зависимости — когда человек очень остро зависит от того, как к нему относятся. И понятно, что эта острота впрямую связана с внутренней уверенностью или неуверенностью в себе. Чем более человек в себе не уверен, тем более он зависим от того, кто как на него посмотрит, что о нём подумают, что скажут и как прокомментируют его действия и обстоятельства. В этом смысле правильно избавляться от излишней чувствительности, от зависимости от чужого мнения. Но это не есть специфика наших детско-родительских проблем. Когда мы говорим об этой специфике, то прежде всего надо избавиться не вообще от зависимости от родительского мнения обо мне, — надо избавиться от страданий, которые мне причиняет их неприятная манера со мной общаться.
Вот об этом конкретно идет речь. Это является предметом жалоб огромного количества людей, которые обращаются к психологу: «Знаете, у меня очень тяжелые родители». Очень часто это же обстоятельство всплывает в связи с совсем другими обращениями, когда человек говорит, что у него проблема с детьми, или с любовными отношениями, или с работой. В огромном большинстве случаев корнем всех этих неприятностей — когда есть возможность проследить их происхождение — оказывается дискомфорт в отношениях с родителями. Может быть, то, что я описываю, можно назвать эмоциональной сепарацией, — но для меня это некоторое терминологическое насилие над этой конструкцией: мне кажется, что надо говорить именно об усыновлении родителей. Это не единственно правильный термин. Можно вместо этого говорить о настоящей дружбе с ними. Но не в банально-пустом смысле слова: «Давайте дружить!», — а в содержательном: наладить с родителями такие же отношения, какие у тебя есть с самыми близким приятелем или подружкой.
— Что, если в свете нашей с вами дискуссии рассмотреть конкретную ситуацию, которой я был свидетелем? Одна моя знакомая вышла замуж, но мама не приняла ее мужа. Мама была единственным родителем, — не помню, что там с папой случилось. Она не приняла мужа дочери и очень жестоко ругалась, так что он был вынужден жить отдельно от жены в общежитии. И все это было еще на фоне того, что у нее, у мамы, резко ухудшилось здоровье, она стала лежачей больной и, соответственно, требовала ухода, и поэтому молодая женщина не могла покинуть маму и жить с мужем. Как известно, часто у таких матерей, которые не хотят расставаться со своими детьми, в «нужный» момент случаются проблемы со здоровьем. И некоторые психологи советуют: «ты на это не обращай внимания, тогда у нее здоровье улучшится», — то есть, ты уезжай. Это вот как позиция сепарации — бросить маму и жить с мужем. Но она осталась жить с ней, прожила с ней года три, страшно мучилась, пила антидепрессанты, потому что ей было ужасно тяжело, потому что мама продолжала дико ругаться. Хоть ее муж отсутствовал, но она по-прежнему жутко поносила свою дочь. Все это было очень тяжело, но когда она умерла, совесть дочери перед мамой была чиста. Как вы считаете, правильный путь она избрала?
— Очень хороший сюжет для комментариев. На мой взгляд, главный выбор здесь был не между отъездом к мужу, с одной стороны, и прежней жизнью с матерью, с другой, а совсем в другой плоскости. А именно: как отнестись к маминому истерическому страху и протесту.
Один вариант — отнестись к матери со встречным протестом, даже оставаясь с ней жить: «огрызаться» на неё, ссориться, доказывать её неправоту.
Второй… а как иначе можно отнестись к этому всему, что от мамы исходило? Как бы мы хотели, чтобы относились люди к нашему страданию — как бы агрессивно оно ни было выражено? Очевидно, мы хотели бы, чтоб к нам относились с сочувствием, с пониманием. Вот так и надо было бы этой несчастной женщине отнестись к своей матери. Мне казалось бы правильным для неё всё же переехать к мужу, не боясь никакого скандала, никакого «атомного взрыва». И в рамках этого расположения изо всех сил маму утешать: «Мамуля, я понимаю, что тебя что-то отталкивает в моём муже, что-то пугает. Ты мне обязательно подскажи, ты мне открой глаза, мне очень важно твое мнение». И говорить это все не технически, а содержательно, потому что мамино мнение действительно важно. Может быть, действительно, чего-то не замечаешь, и ценно, чтобы она открыла глаза. А дальше любые мамины комментарии встречать содержательно. Допустим, мать ворчит: «Он тебя поматросит и бросит, он тебя обрюхатит и сбежит, он твоей жилплощадью воспользуется». Каждую из этих позиций надо комментировать как ты, взрослая дочка, ее видишь. Но, опять же, этот комментарий можно озвучить как протестно, так и сочувственно. Можно сказать: «Не смей так говорить о моем любимом человеке!» Это был бы протестный ответ — и он бы укоренял бы в нашей героине эти же протестные реакции по отношению ко всем другим ее партнерам по жизни. А можно говорить: «Мамуль, ну да, я понимаю, что так бывает, я понимаю, что ты за меня боишься и для меня это очень ценно, ты единственный человек, который меня поддерживает. Но смотри — вот отношения у нас такие-то и такие-то. Вот мы так проводим время, мы так общаемся. Смотри, ты в этом действительно усматриваешь такую опасность?» — «Да, усматриваю, это ты, слепая дура, ничего не замечаешь!» — «Мам, хорошо, что ты подсказала, я послежу, я обращу внимание на эти опасности». — «Пока ты будешь обращать внимание, будет уже поздно! Бросай его немедленно!» — «Мамуль, не могу вот так взять и бросить любимого. Ну, представь, что ты кого-то любишь, а тебе говорят — бросай его! Даже если убедительно говорят, это же непросто?» Цель такого разговора — не переубедить маму, а удержаться на такой не агрессивной интонации, на интонации реального обсуждения, дружелюбного по отношению к матери. И тогда, от разговора к разговору, от недели к неделе напряжение будет неизбежно спадать — и с маминой стороны, и, главное, с «нашей»! И это было бы гарантией того, что она и с другими своими проблемными близкими будет так же общаться и успешно с ними ладить.
— Почему вы считаете, что это успокоило бы маму?
— Потому что за любым маминым скандалом, как и вообще за любым скандалом и криком, всегда стоит запрос: «Покажи, что ты со мной считаешься». И если мы показываем, что да, мы с тобой считаемся, показываем долго, не один и не два вечера, а полгода, — этот запрос оказывается удовлетворенным. Мама, может, продолжает еще что-то такое говорить, но уже другим тоном, уже возможен диалог.
— То есть целью должно быть не изменение позиции родителей, а изменение собственной позиции.
— Совершенно верно.
— Если продолжить тему мам, есть такая общеизвестная проблема — «маменькин сынок». То есть, ребенок, который вырос с мамой, мама не хочет с ним расставаться, мама его считает своим мужчиной, мама сама не хочет существования другого мужчины. И потом у этого мальчика, когда уже он становится взрослым, начинаются проблемы с девушками, с женщинами. И если он женится, то мама опять начинает всячески мешать молодой семье. Есть ли какие-то особенности в рекомендациях этому молодому человеку, в отличие от того, что мы говорили перед этим, для того, чтобы все-таки вот стать настоящим мужчиной, а не «маменькиным сынком»?
— Настоящей несущей балкой, так сказать, этой конструкции является не просто привязанность мамы к сыну — совсем не это, — а ее потребность довлеть. Это мама, которая за ребенка всю дорогу решала сама. И цеплялась, отчаянно цеплялась за свою доминирующую позицию.
И опять зададимся вопросом — почему она так? В каком состоянии должен находиться человек, чтобы у него обострилась потребность подчеркивать свою значимость? Очевидно, когда он сильно сомневается в том, что он сам по себе, без этих силовых внешних проявлений, сможет снискать внимание, уважение, дождется того, чтобы с ним посчитались. За такой авторитарностью, властностью стоит просто страх. Страх, что если я тебе предложу что-то интонацией, которая реально оставляет за тобой свободу выбора, — ты этой свободой воспользуешься не в мою пользу. Если я скажу тебе мягко, без нажима: «Ну, что тебе приятней сегодня — там, пойти в гости на тусовку или со мной фильм посмотреть?» — вдруг ты действительно от меня уйдешь, вдруг я для тебя что-то не очень значимое?
Это очень страшно тем мамам, которые в детстве чувствовали себя не вполне принятыми, были недолюбленными. Оттуда их глубокая неуверенность в себе, страх своей никчёмности. Поэтому они ни в коем случае такой возможности не допускают, говорят: «Нечего, нечего туда ходить, сегодня останешься дома». Есть такой анекдот. Мама кричит в окошко гуляющему ребенку: «Сережа, домой!» Он говорит: «Что, я замерз?» — «Нет, есть хочешь!» Вот что такое «маменькин сынок»: это ребёнок, которому мама навязывает свой авторитет. И здесь же кроются причины недостаточной мужественности ребёнка. Вы спросили, как этому человеку стать по-настоящему мужественным. Для того, чтобы наша рекомендация была содержательной, надо сказать, что такое мужественность. А мужественность — это, прежде всего, ответственность. Вот женственность — это безусловное принятие. «Кому тать, кому разбойник — а мамке родненький сынок», — есть такая замечательная русская поговорка, она, на мой взгляд, прекрасно иллюстрирует настоящую женственность. И, конечно, у таких мамок сын не бывает разбойником. А мужественность — это ответственность: «Я мужчина — я отвечаю». Ответственный мужчина не кричит: «Кто разрешил ребёнку брать мои бумаги со стола?» Он понимает, что, раз он оставил бумаги на столе в помещении, где есть ребёнок — это его собственная ответственность.
Почему же она часто остаётся недоразвитой в нас, мужчинах? Откуда берётся безответственность?
Есть важная подсказка: главное негативное чувство у людей (как, собственно, и у животных) — это страх. А все остальные негативные чувства — гнев, зависть, ревность, одиночество и так далее, и так далее, — это разные производные страха. Поэтому, если ты видишь, что с человеком что-то не то, — прежде всего, ищи, чего он боится. Чего может бояться мужчина, избегающий ответственности, перекладывающий её на других? Казалось бы, боится неудачи. На самом деле он боится не неудачи, а реакции близких на эту неудачу. Если бы он в детстве был приучен к тому, что в случае неудачи ему скажут: «Бедняга, как тебе не повезло, давай я тебе помогу», — тогда ему неудача не была бы страшна. Но он с детства привык к совсем другим комментариям. К тем, которые уже у нас сегодня звучали: «О чем ты только думал? Кто тебе разрешил? Вот зачем ты эту шариковую ручку разобрал? Кто будет собирать? Она тебе что, мешала?». И с тех пор ребенок боится проявлять какую-то инициативу.
Один человек — сейчас он в статусе более-менее олигарха — мне рассказывал историю из своего детства. Как он, примерно в девять лет, разобрал по винтикам телевизор — а тогда было глухое советское время, это была очень большая ценность, — и собрать не смог. Ему никто слова не сказал, даже не скосились на него как-то укоризненно. И в четырнадцать лет он уже работал в телеателье, а в свои сорок четыре, когда у нас с ним был этот диалог, он был более чем состоявшимся человеком.
Вернёмся к «маменькиному сынку». Как же ему выйти из этой неприятной тени, зажить своей жизнью и стать, в частности, уверенным в себе, то есть мужественным человеком? На той же самой основе: понять, что за маминой авторитарностью или за маминым, обывательски говоря, эгоизмом, с которым она так отчаянно цепляется за меня, уже взрослого сына, стоит ее страх, ее неуверенность в себе. Ему надо развернуться прежде всего к ней лицом, а не стараться от нее оторваться изо всех сил. Надо развеять её страх, показать, что он сам рад с ней остаться на Новый год, хотя есть другие лакомые предложения. Но не просто остаться, и, барабаня пальцами по столу, смотреть телевизор всю ночь, — а сделать ей настоящий праздник. Если она будет видеть его сосредоточенность на ней не раз в триста шестьдесят пять дней, а, по возможности, несколько раз в день, она перестанет бояться его «сепарации». Мать перестанет бояться какой-то другой жизни сына, поняв, что эта жизнь не угрожает их отношениям.
Если же он, наоборот, рванётся и попытается порвать эту пуповину — ну, уехать в другую квартиру и не сказать маме ни адреса, ни телефона, или найти себе такую жену, которая поставит жесткую преграду между матерью и сыном, — в этом вполне можно преуспеть, но ведь его внутренний страх, его внутренняя неуверенность в себе от этого никуда не денутся, а только обострятся. И к новой жене, которая вот так манипуляторски cможет отдалить сына от матери, потом этот свистящий бумеранг вернется.
— Такие трудности бывают чаще всего именно с матерью-одиночкой? Потому что у нее нет другой опоры в жизни, да?
— Совсем нет, необязательно. Такие отношения часто бывают и в полных семьях. Вы правильно сказали об отсутствии опоры, но речь идет об отсутствии внутренней опоры, а не внешней. Такая авторитарная мать, она и мужа, если он у нее есть, точно так же под себя подминает. И всё равно не находит в этом настоящего утоления, потому что муж, как и сын, с ней считается не столько из внутренней потребности, сколько из страха.
— А есть какие-то особенности в отношениях дочери с такой матерью? В отличие от отношений с сыном — ведь у нее нет цели стать мужественной?
— Принципиальной разницы нет, в том смысле, что ребенок любого пола — если не усыновит, не удочерит эту свою маму, — обречен на то, что будет очень неблагополучным человеком, некомфортным для своих ближних. Просто формы этого неблагополучия будут разные. Мальчик будет безответственным, инфантильным, а девочка будет, скорее всего, более истеричной и раздражительной. Но, так или иначе, у обоих будет главная проблема — это неуверенность в себе.
— Давайте поговорим о приятном. Какие будут плоды этого вот «усыновления родителей» на протяжении, понятно, что значительного времени? Что в итоге? Какая будет награда?
— Сильно потеплеет внутри. Будет развиваться чувство настоящей устойчивости, уверенности в себе. Не внешней самоуверенности, а того чувства, которое позволяет свободно открыть дверь в комнату, где сидит двадцать незнакомых людей и занимается важным делом, и легко спросить: «Простите, здесь нет Ивана Михайловича?» Чувство, которое позволяет — если ты один из этих двадцати — первому сказать: «Друзья, может, откроем окно, а то душновато?»
— Ну, и в отношениях с мужем, с женой, с противоположным полом, наверное, все станет лучше?
— Да, конечно, потому что работа по настоящему принятию своего проблемного родителя — это именно то, чего ожидают от нас все наши партнеры. Если мы говорим о взрослой женщине, то работа по безусловному принятию своего папы — это та же самая работа, которую безотчётно ждет от нее ее собственный муж. Освоив этот навык в отношениях с отцом, она легко будет потом так же вести себя со своим мужчиной. Если она не сможет этого освоить с отцом, то и мужчина ей будет труден.
— Вот еще хотел бы такую частную ситуацию разобрать, когда родители не принимают твоего избранника, жениха, невесту. Есть традиционное понятие «родительское благословение». Важное значение придается тому, принимают ли родители твоего избранника. Считается, что если принимают, то это залог будущего счастья. Но зачастую они не принимают, и, кажется, что ты знаешь лучше, кто тебе подходит. Вот как быть в такой ситуации? Бывает, что не принимают уже после того, как там поженились и начинают уже постфактум свое противодействие.
— Оптимальной тут была бы профилактика, которая позволила бы эту ситуацию избежать. Поэтому начинать усыновление своих родителей надо как можно раньше, прежде, чем возникли такие проблемы. Если до встречи с этим избранником, на которого родители неизвестно как отреагируют, ты какое-то значительное время сближался с родителями, успел сдружиться с ними, тогда они свою озабоченность твоим выбором проявят гораздо более терпимо, так что можно будет с ними это безболезненно обсуждать.
Но жизнь есть жизнь, и если она нас застала врасплох, и мы вовремя не занялись родителями, а жили спонтанно, старались от них отбиваться, а потом развилась такая жестокая коллизия, что они категорически не приемлют этого человека, — в этой ситуации трудно дать однозначный совет. Иногда правильно бывает скрыть эти отношения, или даже заморозить их, и начать сближаться с родителями. Иногда надо отношения все равно легализовать, открыто поддерживать, а параллельно разбираться с родителями, утешать их, опять же сближаться с ними. Но как мы видим, во всех случаях делать надо одно и то же — успокаивать родительское воспаление, лечить его. Иначе ты неизбежно «заразишься» сам.
— Но ведь бывает так, что родители действительно видят что-то такое плохое в этом избраннике, что на самом деле есть.
— Бывает. И поэтому важно, чтобы у нас была возможность воспользоваться тем, что они видят. Но для этой возможности опять-таки надо сначала изменить интонацию диалога. Пока родители на нас кричат: «Дура, как ты не понимаешь?!», — в таком диалоге эта «дура» действительно не сможет ничего понять, ничего содержательного услышать и увидеть, потому, что она будет реагировать неизбежно только на обвинения себя.
— Что вы хотели бы добавить под конец по этой теме?
— Очень важно понимать, что все эти усилия по усыновлению родителей, по их комфорту, по их благополучию, надо делать не потому, что мы, взрослые дети, обязаны это делать. Мы точно не обязаны. Никто на свете не имеет права обвинить нас в невнимании к родителям, в пренебрежении. Раз пренебрегаем — значит, просто нет сил быть к ним внимательнее. Надо только сказать себе, как именно надо было бы себя вести в собственных, буквально «шкурных», но правильно понятых интересах. На эти усилия надо идти не для родителей, а для себя. Это надо делать только потому, что так тебе будет лучше.